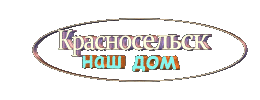Молоканское богослужение -- церемония обычно закрытая для посторонних, однако мне несколько раз удалось побывать у них. Здесь -- рассказ о том, как это было в первый раз, в горнолыжном курорте Цахкадзор, где живет несколько молоканских семей.

(Дети молокан. Фото Рубена Мангасаряна)
Молоканское воскресенье в Цахкадзоре. Богослужение
После нашей второй фиолетовской поездки последовала третья, четвертая… Мы познакомились и даже подружились с несколькими молоканскими семействами в Фиолетове и Лермонтове. Мечиковы писали письма, я переводил их и отсылал в Америку. Но контакты между родственниками при моем посредничестве регулярными не становились. Зато я стал переписываться с американским Джоном Мечикоффым. Мы писали друг другу о детях, о семейных делах.
После этих поездок у нас, наконец, накопилось достаточно материала, чтобы думать о публикациях в серьезных журналах. Мы ткнулись в несколько российских журналов и получили отказ. Но молоканами вдруг заинтересовалось корейское издание журнала «ГЕО». Мы удивились: русское не заинтересовалось, а корейское попросило прислать текст и фотографии.
И действительно, спустя некоторое время наша совместная статья, написанная иероглифами, вышла в свет. Потом была публикация в английском бульварном еженедельнике “TNT”, каким-то образом пронюхавшем о нашем увлечении молоканской тематикой, через год-два вышли статьи и фотографии, кажется, в журналах «Эксперт» и «Огоньке».
Постепенно наши с Рубиком интересы стали немного расходиться. Мне хотелось поездить по другим местам, где живут молокане, посмотреть на них, узнать, как они живут, пообщаться с ними. А Рубику это было не совсем интересно, потому что визуально фиолетовские молокане выглядят ярче и интереснее.
Так получилось, что в горнолыжный курорт Цахкадзор я приехал на какой-то семинар. И вспомнил, что, хотя ранее он и назывался Дарачичаг, в молоканских рассказах Цахкадзор фигурировал как Константиновка.
И действительно, если посмотреть на этот городок повнимательнее, то можно увидеть обшитые деревом дома с резными наличниками, окрашенные в голубой, зеленый или белый цвет. Эти домики явно неармяской архитектуры соседствуют с разнообразными домами отдыха, бывшей Главной спортбазой СССР, горнолыжной трассой… И напоминают они, скорее, российскую глубинку, чем курортный поселок в центре Армении.
Но молокан в Цахкадзоре сейчас почти нет. К зиме 2001 года их там осталось всего несколько семей, которые легко пересчитать: Кудашины, Поповы, Романовы, Тикуновы, Трищелевы и Уколовы. Вот и все.
Цахкадзорский пресвитер Иван Михайлович Попов жил бедно и скромно. Он зарабатывал на жизнь тем, что на маленькой тележке, запряженной маленькой лошадкой, возил детей по городку и ущелью реки Цахкадзор. После непродолжительного разговора он, к моему удивлению, разрешил мне присутствовать на богослужении. Сделал он это довольно хмуро, но я думал, что это потому, что он вообще человек хмурый и неразговорчивый.
А надобно сказать, что молоканское богослужение – мероприятие, закрытое для чужих. Далеко не всякий пресвитер рискнет впустить в молитвенное собрание не молоканина. И нас с Рубиком, сколько мы ни просили, в фиолетовские собрания не впускали. Все, что я знал о богослужениях, к тому времени ограничивалось несколькими рассказами, которые ничего не могли дать, и небольшой цитатой из Линча:
«Я вошел в продолговатое одноэтажное здание, в котором они собираются на молитву. Деревянные скамейки вдоль стен, несколько деревянных стульев – вот все убранство. Не видно ни кафедры, ни алтаря, ни иконы. Бог обитает в живых объектах своей любви. Это селение, как и соседнее, населено молоканами – сектой, исповедание которых, так же, как у духоборов, представляет крайнюю логическую форму протестантской веры. Я говорил с одним стариком, пленившим меня своим симпатичным голосом и манерами (…) о религиозных верованиях молокан. Они почитают Моисея и пророков и Св. Евангелие, но исповедуют свою религию по-своему. (…) Детей не крестят, но приносят их в молельню, читают главу из Евангелия в присутствии ребенка и публично объявляют его имя. Подобной же церемонией освящается брачный союз».
Вернемся, однако, в Цахкадзор.
В девять часов зимнего воскресного утра я был у входа в молитвенный дом. Снаружи он ничем не отличался от соседних одноэтажных каменных домов. Пресвитер ввел меня сначала в большие сени, где громоздились сложенные в штабеля столы и скамейки-лавки, а из сеней – в большую комнату, где, собственно, и проходило богослужение. Здесь было солнечно и чисто. У стены стоял стол, вокруг стола лавки, на которых аккуратно лежали сшитые из разноцветных лоскутков подушки.
В середине помещения – печка. К ней время от времени подходила старушка и подкладывала полешко-другое. У противоположной стены были сложены скамейки. Много скамеек. Видно, что молитвенное собрание знало лучшие времена. «Здесь собиралось 50-60 человек, – грустно сказал пресвитер, проследив за моим взглядом,– Мало совсем осталось».
Постепенно стали собираться прихожане. Каждый входящий мужчина кланялся, оборачивался к восточному углу и читал молитву. Все присутствующие вставали, оборачивались к этому углу и молились вместе с вошедшим, сложив руки на груди. Никто не крестился. По завершении молитвы вновь вошедший, косясь, на незнакомца, присоединялся к остальным, собравшимся у печки.
Нас представляли друг другу, после чего разговор продолжался.
А говорили об эмиграции. «Сейчас в основном собираются в Уругвай ехать. Один из молокан по имени Степан приехал, взял жену в Ереване, поехал в Уругвай, там купил землю, открыл ферму, кофе выращивает… Уже пять семей уехало».
Пресвитер в разговоре не участвовал. Но оставил за собой последнее слово:
«Те, кто едут в Америку, говорят, спасение там будет. – ворча, вмешался он в разговор, – Спасение внутри нас. Где вы, там и спасение будет».
Сказав это, пресвитер дал знак. Присутствующие подошли к столу и сели.
По левую руку от пресвитера сидят «проповедники» и «певцы», по правую – «сказатели» мальчики от 8 до 17 лет. По ходу богослужения проповедники читают отрывки из Библии, певцы запевают – начинают пение псалмов, а сказатели во время пения декламируют молоканские псалмы или отрывки из Библии. Женщины сидят за мужчинами. Всего в то воскресенье в собрании было 18 человек.
«Вообще, полагается, чтобы функции были разделены. Только у нас мало людей ходят в собрание, приходится совмещать», – пояснил мне потом Александр Тикунов, улыбчивый молоканин лет сорока.
Пресвитер называет имя одного из присутствующих. Тот начинает петь тихим голосом: «А-а-и-и, а-а-и-и». К нему присоединяются другие, пение становится многоголосым. Хор медленно преодолевает текст, как будто взбирается на году: «ии–аа, ии–аа, ибла-ибла-женна-женнаи-и-ини-инищие-духо
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», – с ударением на слове «Бога» произносит мальчик. «Все встают и поют стоя: «Ии-аа, ии-аа, ибла-ибла…»
Это – знаменитое слоговое пение молокан. Искусство, которому они учатся с детства. Поются слоги, а не слова. Непосвященным слова становятся понятны не сразу. «Мы выпеваем каждую буковку, потому что это – Священное писание, – рассказал мне Тикунов,– мы чувствуем каждое слово, сказанное Богом».
«Николай!», – это снова пресвитер, координирующий происходящее. Николай, мужчина сорока пяти-пятидесяти лет, встает, открывает Библию и читает девятую главу Евангелия от Матфея, где говорится об исцелении расслабленного, которому Иисус Христос сказал «дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои». А когда книжники посчитали, что Христос богохульствует, он, обратившись к расслабленному, сказал: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И тот встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
Закончив чтение, Николай поблагодарил собрание и сел.
«Маня, пой, – тихо говорит пресвитер – сто тридцать пятый». И Маня, которой за семьдесят, тихим дребезжащим голосом начинает: «Сла-и-сла (это поется тихо-тихо – иначе у Мани не получается) славьтя…» Пение подхватывают двое-трое: «Славьте-ии-вьте-го-ос-ии-пода…» дальше слов уже не разобрать. И опять поют почти все – за исключением двух-трех мужчин. Поют удивительно красиво.
«Родион!» – это снова пресвитер. Родион, мальчик четырнадцати лет, сын Александра Тикунова, берет со стола Библию, раскрывает на сто тридцать пятом псалме и во всю мочь почти кричит вторую строчку: «Славьте Бога богов, ибо вовек милость его!» Хор подхватывает: «Сла-ии-сла-вьте-вьте-ии-Бога…» И снова мелодия разливается в протяжное, раздольное, затягивающее пение, сквозь которое с трудом пробивается голос Родиона: «Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его».
И так продолжалось довольно долго. На часы я не смотрел – не отваживался.
«Пение псалмов, по-видимому, служит главным внешним выражением их религиозных чувств», – писал Линч.
Цахкадзорские молокане относятся к ветви постоянных. Есть еще прыгуны, последователи Максима Рудометкина, жившего в середине XIX века и оставившего огромный след в развитии молоканства. Я не буду касаться сейчас идеологических различий между постоянными и прыгунами, потому что это уведет нас в сторону от повествования.
Скажу лишь, что прыгуны или максимисты (в честь Максима Рудометкина) во время богослужения взмахивают руками и подпрыгивают, входя в молитвенный экстаз. Через несколько месяцев мне удалось побывать в собрании прыгунов, но уже в Лос-Анджелесе. Как-то неожиданно, во время пения псалмов, хор прыгунов особенно выразительно подчеркивал сильные доли такта, и несколько мужчин поднимали руки, как в кавказском танце и начинали припрыгивать, притоптывая ногой. Когда пение псалма заканчивалось, они как бы «возвращались» в обыденность, и снова начинали припрыгивать со следующим псалмом.
Проповедь
Но вернемся к цахкадзорским постоянным молоканам.
Богослужение заканчивалось. Наступило время проповеди.
Пресвитер, Иван Михайлович Попов, говорил с армянским акцентом. И не только он – почти все цахкадзорские молокане, с которыми я общался, кроме, наверно, самых старых говорили с акцентом. У старших еще сохранилось своеобразное южнорусское «яканье», а остальные интонировали вполне «по-армянски». И даже в проповеди проскальзывали армянские фразы.
Это, конечно, не удивляет, ведь столько поколений молокан жило в армянской среде… Кстати, американские молокане в богослужении то и дело переходили на английский. Так что, видимо, язык для них не самое важное. Тем более, что третье-четвертое поколение эмигрантов всегда начинает терять свой язык.
Иван Михайлович Попов суров и немногословен. Говорил он медленно, веско, впечатывая каждое слово. И темой его проповеди была эмиграция.
«Мы разбегаемся, разваливаемся, ищем, где лучше, роскошествуем, на машины зарабатываем… А вера-то от этого не увеличивается!..»
«Господь везде с нами, но лучше нам быть на месте. На том месте, где наши старики, где наши братья и сестры…»
«Сатана ликует, говорит: “Уедем, там лучше, там вкуснее”. Те, которые там, они перейдут в православие, забудут все. А те, кто здесь остаются, те истинные христиане…»
«Ибо Христос сказал: имеешь пропитание – будь доволен. Имеешь одну рубашку – будь доволен. И за все благодари. А те, кто уезжают, служат чреву…»
«Если мы хотим, чтобы на нашей земле, в нашей Армении было хорошо, то должны молиться, должны работать… А если кто готовит гусей в красных кастрюлях – не преумножается вера от этого…»
«Мы помогаем нашим больным и убогим. Ходим к больным братьям нашим армянам, помогаем, и что они говорят? «Մոլոկանե, ըսոնք մեզնից խղճով են» («Молокане более совестливые, чем мы».
После проповеди все встали и отодвинули скамейки. Пресвитер преклонил колено. Мужчины встали на колени, а женщины пали ниц. Пресвитер начал молитву. Женщины тихонько подвывали, а мужчины молчали, сложив руки на груди. На лице у некоторых –слезы. Стало тихо-тихо, и лишь слова молитвы раздавались в тишине.
А за окнами – воскресный зимний Цахкадзор, куда съезжается весь ереванский бомонд – подняться по канатной дороге на гору Алибек, покататься на горных лыжах или санках, выпить, пофлиртовать, да и просто кайфово провести время.
В собрании же все так, как было сто и сто пятьдесят лет назад. Тихо и благочинно.
Все встали. Богослужение закончено. Ко мне подошел Александр Тикунов: «Брат, пойдем к нам, чай пить».
Чаепитие

(Подготовка к торжественному молоканскому чаепитию. Фото Рубена Мангасаряна)
По воскресеньям молокане не работают. После богослужения обедают, ходят друг к другу в гости. У Александра и Веры Тикуновых собралось семь человек. Их младший сын, Родион, надев горнолыжные ботинки, быстренько растопил самовар и отправился кататься на лыжах.
У Александра пять сестер. Все не в Армении. Уехали они в Россию в начале девяностых. За пределами Армении и дети Тикуновых. Сын учился в Бауманском училище, дочь – в Тимирязевской академии. Старший сын окончил Академию связи в Одессе и вернулся в Армению. Сейчас работает в Ереване.
Молокане вспоминают, как жили в Цахкадзоре раньше. «Жили своим трудом, сеяли пшеницу, огороды у всех были… Гора напротив, «Քյաչալ սար», (Лысая гора) была вся засеяна пшеницей, ячменем».
Выпив пару чашек чаю, молокане начали петь. Сначала пели духовные песни. Их многоголосье удивительно чистое, захватывающее. И я снова забыл о том, что за стенами – современный курортный Цахкадзор. Было полное впечатление, что я попал в совершенно иной мир. Молокане пели: «Иду к Богу я спешу, Три друга у него прошу, – поют они. – Первый друг мне полная вера, А второй друг надежда. Третие святая любовь, И где любовь, тут и Бог».
В следующее воскресенье я вернулся к Тикуновым, чтобы записать, как они поют. На этот раз со мной был Рубик. И для того, чтобы записывать, компанию нам составили наш близкий друг, директор Филармонического оркестра Армении Ника Бабаян и звукооператор этого оркестра.
Когда мы ехал в Цахкадзор, нас обогнал кортеж машин с посольскими номерами. Это работники посольства России ехали кататься на лыжах. А я подумал: знают ли они о существовании семи русских, молоканских семей рядом с горнолыжной трассой?
Приехав к Тикуновым, мы сначала долго пили чай, чтобы молокане привыкли к микрофонам, поставленным в комнате. Потом они запели. Их пение было таким красивым, свободным и широким, что Ника Бабаян постепенно начал клевать носом. Вслед за ним стал засыпать и Рубик.
«Пение визуально не интересно», – оправдывался он потом.
На обратном пути мы остановились возле маленького заснеженного цахкадзорского кладбища. Проваливаясь по колено в снег, я ходил между могил, читая молоканские фамилии: Шишков, Гончаровы, Чернышова, Дьяконова, Шубина, Золотова, Волков, Щебетов. Их потомки уже не живут в Цахкадзоре.
А где они живут? Какое место на земле считают они своей родиной? И как им живется?